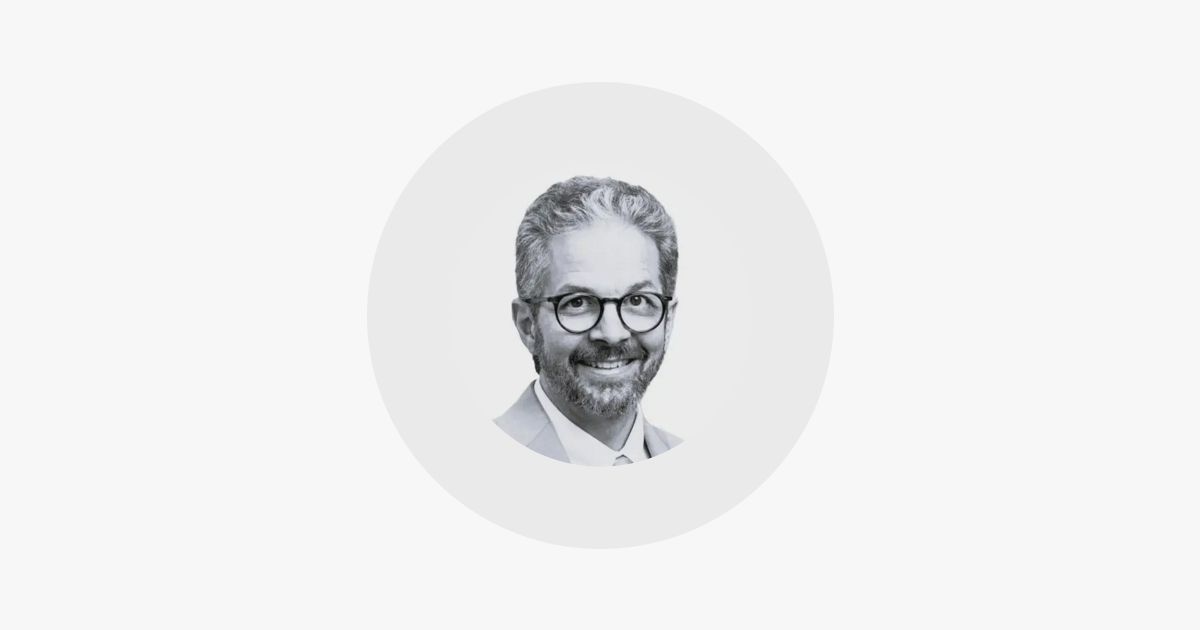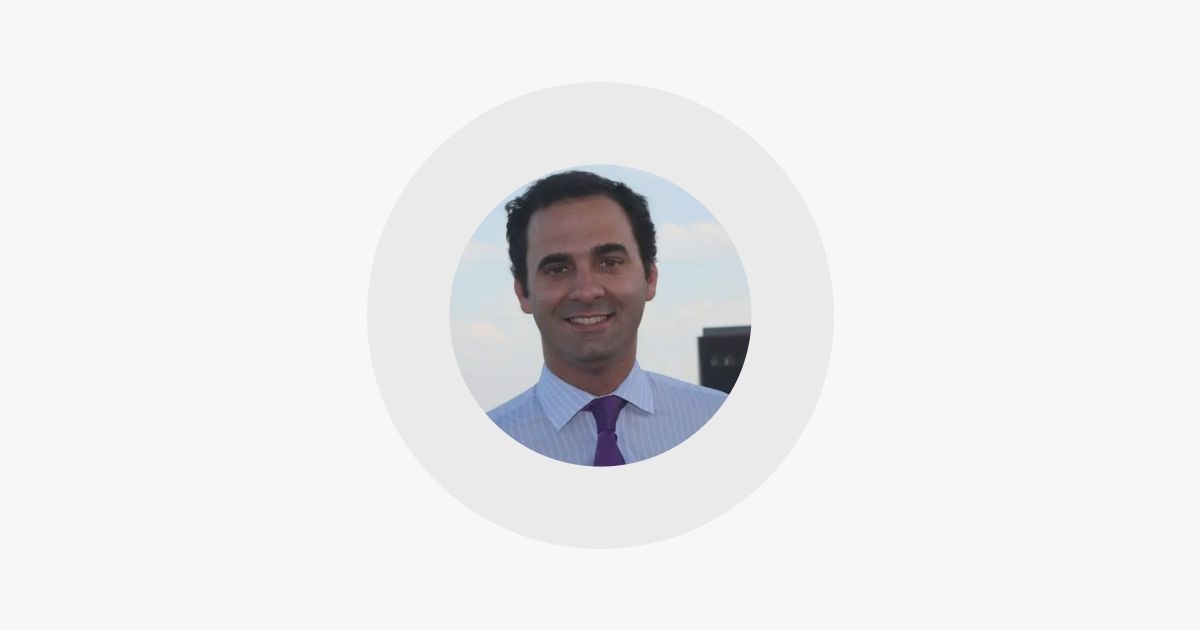Афродита, Лукреций и память тела.
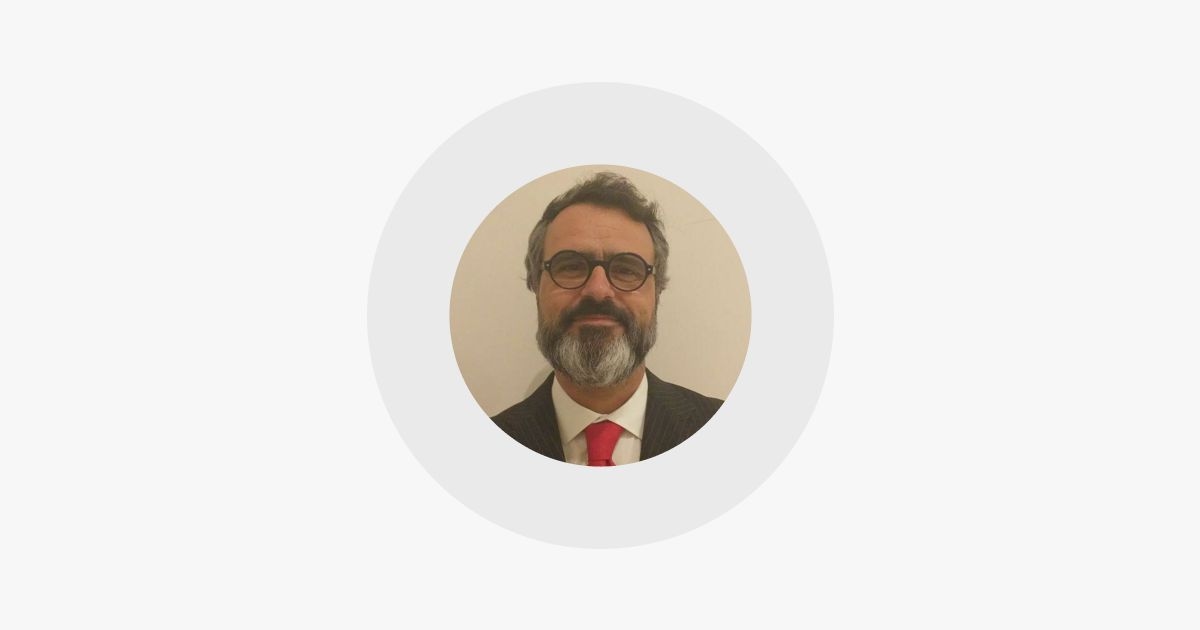
В желании есть тишина, гораздо более древняя, чем речь: в начале было Слово; но прежде слова был рот; прежде любви был голод. И всякий раз, когда встречаются два тела, они повторяют первоначальное изумление плоти, узнающей плоть — не как знание, а как потерю. Древние знали это. Они дали ей имена: когда Афродита вышла из пены, она родилась не из чрева, а из отрубленного пола бога — Урана, оскопленного своим сыном. Из увечья отца возникла красота; из насилия — нежный изгиб плеча, трепет века. Эрос, говорит нам Гесиод ( Теогония 188–201), родился от удара.
Желать, следовательно, означает чувствовать, как эта рана вновь открывается в теле. Секс никогда не бывает просто жестом жизни: это поминовение смерти. В мгновение объятия ощущается хрупкость времени: мгновение растягивается, останавливается, а затем растворяется. Удовольствие – это маленькое уничтожение. La petite mort , могли бы назвать это римляне, хотя они никогда так не говорили. Они предпочитали называть это метафорами борьбы и капитуляции, хотя победа – понятие неоднозначное, ибо и победитель, и побеждённый терпят поражение. Ложе – это поле поражения.
Греки представляли себе желание как форму безумия – божественное безумие , как назвал его Платон в «Федре» . Душа, вспоминая совершенные формы, которые она когда-то видела, трепещет перед красотой; она желает возвыситься, но тело тянет её вниз. Так начинается парадокс: чем сильнее желание, тем сильнее разрываешься между восхождением и падением. Увидеть любимого – значит вспомнить то, что невозможно вернуть. Прикоснуться к любимому – значит потерять то, что искал.
Тело, насытившись, возвращается к себе – тяжёлое, безмолвное, одинокое. И в этот миг время начинается снова; часы возобновляют свой ход; тело вспоминает, что скоро умрёт.
Овидий знал, что любовь – это метаморфоза – непрерывный переход от формы к форме, от раны к ране: Дафна превращается в дерево, чтобы спастись от Аполлона; Нарцисс, созерцая себя, растворяется в воде; скульптура Пигмалиона пробуждается. Желание преображает плоть в мрамор, мрамор в плоть, жизнь в образ. Каждое преображение – это бегство от тления, которое, тем не менее, несет в себе смерть. Возможно, именно поэтому древние боялись забвения меньше, чем времени, поэтому они и ваяли своих богов в камне: чтобы сохранить изгиб бедра, тень груди, жест руки, некогда потянувшейся к чему-то, чего она не могла схватить. Но и мрамор изнашивается, и боги теряют свои лица. Ветер – верховный скульптор.
Есть что-то непристойное в том, как желание сохраняется после смерти. На этрусских гробницах мужчины и женщины лежат рядом, улыбаясь, их конечности переплетены в невозможном спокойствии: они мертвы уже много веков, но их кожа всё ещё светится охрой возбуждения. Возможно, они не любовники, а тени, помнящие жар. Римляне тоже оставили после себя призраки похоти: граффити в Помпеях, непристойные светильники, статуэтки Венеры, погребённые вместе с воинами. Они даже взяли с собой в гробницу свой голод. Смерть не стирает память тела, она преображает его в образ.
Каждый акт желания – это репетиция исчезновения: когда мы смотрим на кого-то с тоской, мы тут же оплакиваем его отсутствие. Время разрывается в мгновение прикосновения. Мы чувствуем, как старые слои плоти – животное, ребёнок, будущий труп – накладываются друг на друга. Кожа возлюбленного не просто присутствует; это поверхность, сквозь которую просачивается всё время. Ласкать кого-то – значит пересекать века. Желание – это пропасть между двумя ничто.
Греки бы улыбнулись: они знали, что любовь начинается там, где заканчивается знание. Эрос — это жажда души, познавшей божественное, тоска по тому, чего невозможно коснуться. Но более строгие латиняне связывали желание с телом — Лукреций в трактате «О природе вещей » описывает влюблённых как жертв атомов: тело — одновременно источник наслаждения и знак разлуки; каждый поцелуй подтверждает, что двое никогда не смогут стать одним целым.
В тлении есть нежность: плоть, некогда обгоревшая, остывает, сгибается, размягчается. Тело становится текстом, написанным временем – шрамами, морщинами, молчанием. Любить тело – значит читать этот текст, не надеясь когда-либо его закончить.
Сам язык — это своего рода изгнание, и желание также изгоняет нас, выталкивая из себя в нечто иное, в глубине чего мы никогда не сможем поселиться. У греков было слово для этого состояния — экстаз (ἔκστασις — буквально, «пребывание вне себя»). Пребывая в этой внешней реальности, мы остро и болезненно вновь осознаём свою смертность.
Даже боги завидовали ей: Зевс, способный принимать любой облик, превращался в быка, лебедя, золотой дождь – всё, чтобы ощутить трепет человеческого прикосновения. Божественное жаждет конечного, мимолетного мгновения. Бессмертие слишком холодно, чтобы быть желанным.
Умереть, говорили римляне, значит вернуться в землю, питающую желание. «Мы — прах и тень», — говорит нам Гораций ( Pulvis et umbra sumus, Carmina IV.7.16), но что такое прах, как не останки некогда сплетённых тел? Каждая песчинка когда-то была существом; каждое дыхание несёт в себе частицы тех, кто любил до нас. Мы вдыхаем мёртвых. Мы выдыхаем желание.
Любители древности лежат в своих каменных саркофагах, их руки высечены из камня. Тысячелетняя пыль скапливается между их пальцами. Время идёт, но жест остаётся – одна рука держит другую. Сохраняется лишь одно: прикосновение.
Желание не противостоит смерти; оно — её брат-близнец. Они рождаются из одного и того же отказа — отказа от конца. Эрос и Танатос — не враги, а сообщники: в трепете оргазма тело репетирует свой последний спазм. В тишине смерти сохраняется нечто от удовольствия: покой от утоления голода.
Древние клали монеты на глаза умерших – жалованье за переправу, но и ослепление их взора. Желание начинается со зрения; смерть его гасит. Но, возможно, Харон, переплывая Стикс, тоже желал – прикосновения монеты, сияния того, что когда-то было тёплым.
Время хрупко, потому что его можно прервать. В любви время изгибается; в смерти оно останавливается. Оба показывают, что оно никогда не было линейным – оно всегда было кругом, возвращением. Греки называли это ἀνάγκη (anánkē – необходимость), вечным повторением того, что должно быть. Мы рождаемся из тел других; мы возвращаемся к ним во снах, в жестах, в стонах, вырывающихся при прикосновении. Сам язык несёт в себе память плоти: amor, mors – любовь и смерть различаются всего одной буквой.
Я думаю о той женщине из Помпеи, окаменевшей в пепле: её рука всё ещё протянута – то ли к возлюбленному, то ли к воздуху. Запечатлённое в этом жесте, её тело ни живо, ни мертво. Она – чистое желание: движение, застывшее во времени. Вот что остаётся нам – не тело, не имя, а жест. Зов, на который никогда не отвечают.
Парадокс желания в том, что оно стремится к единению, но расцветает на расстоянии. Если бы мы когда-либо полностью достигли друг друга, мы бы исчезли. Платон понимал это, когда говорил об Эросе как о даймоне ( «Пир», 203б), полубоге, полусмертном, вечно незавершённом.
Желание – это пространство между нами. И именно в этом пространстве мы живём – трепетное, эфемерное, сияющее. Каждое объятие бередит первую рану. Каждый поцелуй повторяет первый вдох. Каждая потеря учит одному и тому же: время – не река, а пульс, который, если его остановить, исчезает.
Тело знает это, даже когда дух забывает: оно помнит море, породившее Афродиту, помнит пену, разбитое небо; помнит мифы, потому что состоит из них; помнит, потому что должно умереть. В конце концов, любовь — древнейшая форма траура. Мы желаем, потому что потеряли то, чему не можем дать имени. Мы превращаем другое тело в мост к этой разлуке: мы переходим его, зная, что оно рассыплется, и называем это падение удовольствием.
Жить — значит желать того, что исчезнет. Умереть — значит перестать желать. Между ними остаётся дрожь — и это то, что мы называем телом.
observador